Анна Аликевич
Поэт, прозаик, филолог. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького, преподаёт русскую грамматику и литературу, редактирует и рецензирует книги. Живёт в Подмосковье. Автор сборника «Изваяние в комнате белой» (Москва, 2014 г., совместно с Александрой Ангеловой (Кристиной Богдановой)).
Флагман ностальгической тенденции в современной «большой прозе»
О новых книгах Алексея Варламова, Шамиля Идиатуллина, Александра Архангельского, Дмитрия Быкова, Романа Сенчина
Москва душила в объятьях
Кольцом своих бесконечных Садовых…
В.В. Маяковский
Сейчас то время, когда, как теперь принято говорить, «мейнстримом современной прозы» становится большой реалистический роман, посвящённый событиям советского прошлого (20-е – 80-е). Отчасти это связано с тем, что авторы из уже сформировавшейся плеяды, которых принято называть маститыми, представляющими костяк серьёзной и мыслящей отечественной традиции, создали целую Атлантиду рефлексирующей литературы о временах собственной юности. К 2010-м эти люди достигли зрелости, способности пересмотреть события самых ярких лет своей жизни – детства и отрочества, – а внешним толчком, вероятно, стала внутренняя рифма с сегодняшней Олимпиадой или её ожиданием. События, сегодня скорее внешние для нас, в те далёкие времена были чуть ли не внутренней жизнью каждого, вовлечённость в общественные процессы была в разы больше, и вообще, всё было устроено совсем по-другому. И как именно по-другому, нам с любовью к тому «прекрасному времени» и восстановлением мельчайших его подробностей рассказывают Алексей Варламов, Шамиль Идиатуллин, Александр Архангельский, Роман Сенчин; но и другие авторы, углубившиеся в годы тоталитаризма, – Дмитрий Быков, Гузель Яхина, Наталья Громова, – тоже не могут быть оставлены нами без внимания. Вероятно, пришло время художественного осмысления этого этапа истории, хотя положенных 50-ти лет ещё и не прошло.
Пусть Алексей Варламов в новой книге и замечает, что «ностальгия по небывшему» – выражение некорректное, но феномен «ностальгической прозы» действительно связан с романтизированным «довидением» перспектив и событий 70 – 80-х гг1. Как-то странно было бы ностальгировать, то есть испытывать светлую грусть по, скажем, 30-м или 50-м, согласитесь? Язык не повернётся искать признаки розовой дымки в жизнеописаниях шульмейстера Баха (20 – 30-е) или поэтессы Берггольц (20 – 50-е), ставших главными героями двух знаковых «больших книг» этого года. А вот более поздние времена с менее трагическими и более дискуссионными проблемами дают обширную почву для интерпретаций. Авторы, большей частью современники событий, а не архивные труженики, ещё и «используют» автобиографического героя, таким образом, жанр художественный соединяется с дневниковостью. Погружение в собственное прошлое, ставшее не мрачным многоточием (герои Быкова, Громовой), а источником прекрасных миражей, даёт возможность ощутить себя не только жертвенно-пассивной частью истории, но и её героем. Недаром именно на 70 – 80-е приходится иллюзия «массовой элитарности», когда деревни изрядно опустошены в пользу города, вчерашние обитатели барака и коллективного помпезанса въехали в собственное жильё, высшее образование стало настолько популярным, что заходит речь о его общедоступности, а народившееся третье советское поколение ощущает себя чуть ли не хранителем культуры, носителем уникального комплекса знаний, наследия и новой традиции. Если верить, что культура есть последняя стадия цивилизации, то к 80-м, по этой теории, советская «накопительная система» состоятельности личности должна была достигнуть своей высшей точки, дав нам, по меткому выражению Вознесенского, «творянина». Катастрофа перестройки частично уничтожила эту сложную, но оказавшуюся хрупкой личность, сформированную послесталинским, позднесоветским временем: книга Романа Сенчина «Дождь в Париже» (М. АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2018) подробно и обстоятельно описывает процесс морального и физического распада индивида и государства – по словам Галины Улановой, ещё более губительного, чем любые ужасы внутри империи на протяжении её существования (что спорно, но является характерным свидетельством).
I. «Подходящий» Павлик Алексея Варламова и «неудобный» Артурик Шамиля Идиатуллина
 На книге «18+», но это скорее «18–»: после совершеннолетия она заинтересует разве что дитя семидесятых, погибающее от ностальгии по предперестроечному обаянию безвременья. Очередной роман Алексея Варламова «Душа моя Павел» о наивном мальчике из секретного городка, приехавшем поступать на филфак МГУ, определенно получил бы приз зрительских симпатий, проводи мы в 2018-м воображаемый конкурс на лучший ностальгический текст о Союзе. Тем не менее это не «большая литература»: нельзя назвать книгу подростковой или адаптирующей время под юношескую аудиторию, однако и тематика, и специфика освещения, и даже сама стилистика не позволяют рассматривать новинку как, скажем, филигранных «Детей моих» Яхиной. Нехорошо говорить «щадящая книга» – но в чём-то это так. При том, что это хорошая и интересная работа, которая не может нанести читателю никакого психологического вреда, ожидающий погружения в советские полноценные ужасы и нырка на глубину тоталитарных кошмаров не будет доволен. Роман о Персивале движется строго по лабиринту канона, состоящего из незнания, феи, узнавания, «инициации лесом», обольщения реальностью и грёзой и так далее, а сам юный человек природы полностью архетипичен и безвременен, и потому разбор его фигуры – общее место.
На книге «18+», но это скорее «18–»: после совершеннолетия она заинтересует разве что дитя семидесятых, погибающее от ностальгии по предперестроечному обаянию безвременья. Очередной роман Алексея Варламова «Душа моя Павел» о наивном мальчике из секретного городка, приехавшем поступать на филфак МГУ, определенно получил бы приз зрительских симпатий, проводи мы в 2018-м воображаемый конкурс на лучший ностальгический текст о Союзе. Тем не менее это не «большая литература»: нельзя назвать книгу подростковой или адаптирующей время под юношескую аудиторию, однако и тематика, и специфика освещения, и даже сама стилистика не позволяют рассматривать новинку как, скажем, филигранных «Детей моих» Яхиной. Нехорошо говорить «щадящая книга» – но в чём-то это так. При том, что это хорошая и интересная работа, которая не может нанести читателю никакого психологического вреда, ожидающий погружения в советские полноценные ужасы и нырка на глубину тоталитарных кошмаров не будет доволен. Роман о Персивале движется строго по лабиринту канона, состоящего из незнания, феи, узнавания, «инициации лесом», обольщения реальностью и грёзой и так далее, а сам юный человек природы полностью архетипичен и безвременен, и потому разбор его фигуры – общее место.
А вот университетский мир 80-х, изображённый в книге, разползшийся на анекдоты, но здесь систематизированный, – как раз и есть предмет наибольшего интереса рецензента. Этот мир уже отделился чертой, уже часть прошлого, и вот-вот ретроспективой станет то, последние современники чего ещё возвышаются над кафедрой и над своим окончившимся, но в то же время преодолённым миром. Роману присущ умеренный патриотизм – обычно эта черта отталкивает, поскольку либо, гипертрофированная, прикрывает собой недостатки языка автора, впадающего в публицистичность, либо вообще низводит наши мысли к «квасному направлению». Но здесь подобного нет: даже такой противник политики в литературе, как автор этих строк, признаёт, что мера, которая лучший друг гармонии, здесь соблюдена, а внутренний мир ребёнка выстроен по лекалам русской классической традиции, но скорее естественен. Не могу сказать, что мне однозначно понравилась эта слишком правильная с точки зрения литературного канона книга, но она вызвала у меня симпатию, интерес и много детских воспоминаний, так что рекомендую к прочтению.
Павлик ничего не знал про бессмертие души, но встающие над полем облака напоминали ему отца и мать. Прежде этого чувства у него не было, и Непомилуев догадался, что всё дело было в небе. Его родная земля была гораздо красивее верховий Москвы-реки, но чего там не было, чего не видел Павлик прежде, так это открытости, распахнутости ровного пространства и низкой линии горизонта. Не видел таких сумасшедших облаков, не видел начинавшегося прямо от земли неба, и порой под вечер он замирал среди полей и последним возвращался домой, в сумерках угадывая зыбкие огоньки Анастасьина. В эти минуты он забывал об отцовской суровости, требовательности, жесткости и помнил только детское, далекое: озеро, ягдташ, костёр не берегу.
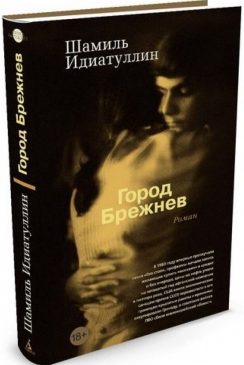 Однако задача этой статьи – не исследование происхождения и композиции романа «Душа моя Павел» (тут см., например, статью Анны Жучковой («Урал», 2018, № 7)), а поиск советских мифологем и особенности их интерпретаций в современном романе (здесь этому отвечает образ МГУ 80-х со всеми прилегающими территориями «картошки», «филологических баек», «5-й графы», «легенд о высотках» и др.). Так что пока мы вернёмся к другой вещи, очень созвучной этой по жанру, — роману-воспитанию Шамиля Идиатуллина «Город Брежнев» (СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2018, серия «Азбука-бестселлер. Русская проза»), о котором у нас есть более подробная статья на «Textura». Ещё одна (возможно, лучшая на сегодня) вещь об отроке брежневской поры, но, конечно, рассчитана она отнюдь не на психологически хрупкого индивида. Подростковый роман и роман о подростке – две большие разницы. И если Варламов, огрубляющий явления, вернее связан с первым, то «Город Брежнев» скорее уж можно ассоциировать со «Школой» Гайдара, нежели с любыми наследниками пионерского романа, даже талантливыми и неочевидными, – это книга о ребёнке, рано столкнувшемся со взрослой жизнью в непростое для страны время.
Однако задача этой статьи – не исследование происхождения и композиции романа «Душа моя Павел» (тут см., например, статью Анны Жучковой («Урал», 2018, № 7)), а поиск советских мифологем и особенности их интерпретаций в современном романе (здесь этому отвечает образ МГУ 80-х со всеми прилегающими территориями «картошки», «филологических баек», «5-й графы», «легенд о высотках» и др.). Так что пока мы вернёмся к другой вещи, очень созвучной этой по жанру, — роману-воспитанию Шамиля Идиатуллина «Город Брежнев» (СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2018, серия «Азбука-бестселлер. Русская проза»), о котором у нас есть более подробная статья на «Textura». Ещё одна (возможно, лучшая на сегодня) вещь об отроке брежневской поры, но, конечно, рассчитана она отнюдь не на психологически хрупкого индивида. Подростковый роман и роман о подростке – две большие разницы. И если Варламов, огрубляющий явления, вернее связан с первым, то «Город Брежнев» скорее уж можно ассоциировать со «Школой» Гайдара, нежели с любыми наследниками пионерского романа, даже талантливыми и неочевидными, – это книга о ребёнке, рано столкнувшемся со взрослой жизнью в непростое для страны время.
Второй вопрос, который рецензент хотел бы осветить здесь, – особенности отображения советского психотипа и его исторических трансформаций в реалистическом большом романе наших дней. Конечно, с этой точки зрения сирота Павлик Непомилуев благодарнее как объект исследования – герой Идиатуллина не из тех, кто легко подпадает под обаяние не проверенных лично вещей, даже если они и увлекают его. За номенклатурным мальчиком стоит семья с её большой любовью (один из самых привлекательных и сильных образов романа). Специфическая деформация сознания жителя времён режима называется ныне в психологии искусственной инфантилизацией, когда вне данного государства («Пятисотый» в нашем случае) взрослый человек практически не способен к адаптации. Конечно, не любой человек, а человек «в массе своей», но ведь Павлик в чём-то и есть «масса»: элемент усреднённости – а не исключительности – присутствует в нём. Потому что быть исключительным страшилищем и неудачником на фоне более благополучного окружения – вовсе не значит быть уникальным. Есть же анекдот, что некоторым расти и расти до той планки, которая усредняет и обезличивает имеющего лицо. Герой Идиатуллина только внешне «как все», а внутри — редко встречающаяся и вполне сформированная личность (и потому-то на нём неудобно изучать «среднего советского человека»). А вот гипертрофированный в своих неуклюжести, невежестве, антисанитарии, наивности, даже верзилистости «сын полка» Непомилуев словно нарочно создан автором для более удобного и ловкого укладывания в типовое ложе «человека советского». Кто-то скажет, внимательно почитав книгу, что это искусственный образ: выдача возможного за факт. Но на 1/3 этот новый Павлик определённо присутствовал если не во всех условно интеллигентных детях своего поколения, то в большей половине. Не всегда он проявлялся так явно, не всегда имел развитие в силу ряда причин, но психотип схвачен верно. А значит, по нему можно судить о работе системы в определённое историческое время в определённом контексте: Павлик – это вовсе не свидетель, а свидетельство.
II. «Экзотический» Алёша Александра Архангельского
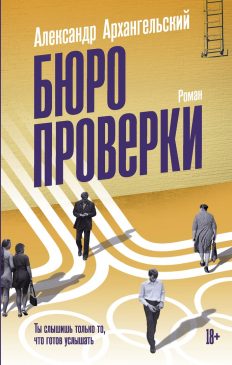 «Бюро проверки» (или «Страшная большая контора “Мамина работа”», как метко сказано о подобном учреждении в современном мультфильме «Стёпочкин») Архангельского (АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2018) роман, погружающий почти в тот же пространственно-временной контекст, что и варламовский Савл, — 1978-1980 гг., Олимпиада, Москворечье – даёт нам, казалось бы, аналогичного героя. Аспирант-первокурсник философского отделения Университета Первопрестольной также неофит, так же влюблён в непознанное (в данном случае объект благоговения – не глокая куздра для новоначальных, а семантика церковных таинств и нюансы аскезы). Но герой текста уже как бы не прост, лишён черт обобщения, не шаблонен, собирательность образа – умышленно или нет – сведена к минимуму. Куда там обитателю постпионерского романа (Варламов) или микса из номенклатурного мемуара и криминального чтива 90-х (Идиатуллин). Не большое сердце, а трезвая голова вступает в игру, и потому проигрывает: ведь сердце чует правду, а на умного всегда найдётся более умный, что и случается с героем. Вовсе не в устаревших мечтах о насаждении коммунизма по всему миру, бесплатном благоденствии и всеобщей дружбе (Павлик); не в восторженных грёзах о земном рае Али Эфрон из «Июня»; не в представлениях о прекрасном городе детства и чувстве товарищества, духовном родстве (Артурик); даже не в слюнях по новому видаку и прелестям Моники Беллуччи (Топкин), – а в своих религиозных, не имеющих отношения к марксову учению исканиях персонаж подпадает под обаяние эрудированного, но морально нечистоплотного профессора-библиофила Сумалея и попов-сектантов начётнического толка. И едва не гибнет в лапах деструктивной секты, его же и сдавшей органам госбезопасности в «сложное время проверок» – проверок отношениями с мамой, с папой, с вузом, с подругой, с единомышленниками, со временем, с КаГэБэ и просто с жизнью. В этой истории, как и в истории с Павликом, кстати, «Большой партком» играет чуть ли не на стороне запутавшегося героя супротив диссидентско-неофитской «тусовки», как бы должной нести истину и свет в атеистические ряды коммунистов-формалистов-бюрократов, засушивших себя на съездах. Однако на проверку она оказывается далёкой не только от десяти заповедей, но и от элементарной человеческой порядочности. Решение вполне в советском ортодоксальном ключе: честный коммунист и пред Всевышним лучше, чем пьющий, взяточничающий и строчащий доносы служитель культа. Мифологема «хороших особистов»? Скорее мысль о том, что нет плохих должностей, а есть плохие люди, весьма скользкая в применении к некоторым видам деятельности, но тем не менее. Ну и мифологема «лжесвященства и ересей» переходного, духовно смутного времени 70 – 90-х. «Большой страх» ушёл, и люди, изрядной частью отпадающие от «философии коммунизма и атеизма», уже внутренне разделились на тайноверующих, различных сектантов баптистско-адвентистского толка, на мечтающих возродить официальное православие, истинных подвижников… И, как мы узнаём из романа Архангельского, беспринципных фарисеев, кормящихся возле Церкви. Не так уж часто затрагиваемая в нашей литературе тема, которую мы обозначим как существующую, но останавливаться на ней не станем.
«Бюро проверки» (или «Страшная большая контора “Мамина работа”», как метко сказано о подобном учреждении в современном мультфильме «Стёпочкин») Архангельского (АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2018) роман, погружающий почти в тот же пространственно-временной контекст, что и варламовский Савл, — 1978-1980 гг., Олимпиада, Москворечье – даёт нам, казалось бы, аналогичного героя. Аспирант-первокурсник философского отделения Университета Первопрестольной также неофит, так же влюблён в непознанное (в данном случае объект благоговения – не глокая куздра для новоначальных, а семантика церковных таинств и нюансы аскезы). Но герой текста уже как бы не прост, лишён черт обобщения, не шаблонен, собирательность образа – умышленно или нет – сведена к минимуму. Куда там обитателю постпионерского романа (Варламов) или микса из номенклатурного мемуара и криминального чтива 90-х (Идиатуллин). Не большое сердце, а трезвая голова вступает в игру, и потому проигрывает: ведь сердце чует правду, а на умного всегда найдётся более умный, что и случается с героем. Вовсе не в устаревших мечтах о насаждении коммунизма по всему миру, бесплатном благоденствии и всеобщей дружбе (Павлик); не в восторженных грёзах о земном рае Али Эфрон из «Июня»; не в представлениях о прекрасном городе детства и чувстве товарищества, духовном родстве (Артурик); даже не в слюнях по новому видаку и прелестям Моники Беллуччи (Топкин), – а в своих религиозных, не имеющих отношения к марксову учению исканиях персонаж подпадает под обаяние эрудированного, но морально нечистоплотного профессора-библиофила Сумалея и попов-сектантов начётнического толка. И едва не гибнет в лапах деструктивной секты, его же и сдавшей органам госбезопасности в «сложное время проверок» – проверок отношениями с мамой, с папой, с вузом, с подругой, с единомышленниками, со временем, с КаГэБэ и просто с жизнью. В этой истории, как и в истории с Павликом, кстати, «Большой партком» играет чуть ли не на стороне запутавшегося героя супротив диссидентско-неофитской «тусовки», как бы должной нести истину и свет в атеистические ряды коммунистов-формалистов-бюрократов, засушивших себя на съездах. Однако на проверку она оказывается далёкой не только от десяти заповедей, но и от элементарной человеческой порядочности. Решение вполне в советском ортодоксальном ключе: честный коммунист и пред Всевышним лучше, чем пьющий, взяточничающий и строчащий доносы служитель культа. Мифологема «хороших особистов»? Скорее мысль о том, что нет плохих должностей, а есть плохие люди, весьма скользкая в применении к некоторым видам деятельности, но тем не менее. Ну и мифологема «лжесвященства и ересей» переходного, духовно смутного времени 70 – 90-х. «Большой страх» ушёл, и люди, изрядной частью отпадающие от «философии коммунизма и атеизма», уже внутренне разделились на тайноверующих, различных сектантов баптистско-адвентистского толка, на мечтающих возродить официальное православие, истинных подвижников… И, как мы узнаём из романа Архангельского, беспринципных фарисеев, кормящихся возле Церкви. Не так уж часто затрагиваемая в нашей литературе тема, которую мы обозначим как существующую, но останавливаться на ней не станем.
Однако вернёмся к особенностям персонажа. Замечательные мальчики двух отчётливо ностальгических реальностей, как и «незамутнённо верующие в коммунизм» чуть ли не до 90-х родители Топкина (Роман Сенчин) и даже менее романтические предки Артурика выглядят по-детски рядом со сложным, рефлексирующим, автобиографически-неигровым героем Архангельского. Последний же чуть ли не на равной интеллектуальной ноге со старой московской профессурой и только в багажном отделении уступает. Не игровой, потому что нет набора «нужных комсомольских» качеств («Всегда готов!»), не сконструированный (как и герой Быкова, кстати, но об этом позже), а многогранный, не особо приятный как человек, очевидно, что не «рядовой продукт системы», сын редакторши принадлежит к «мыслящей» столичной элите. Система потихоньку уже выходит на предперестроечную волну, и герой как житель столицы и бойфренд дочки номенклатурщика в первую голову оказывается подвержен западным тенденциям. В воздухе уже витают идеи бизнеса, манят импортные товары и приоткрытая дверь в большой мир (которая для маленького узкого круга партийно-правительственной элиты никогда не была закрыта полностью), кит уже прозрачно портится с головы. Суррогатные иллюзии, охватывающие Павла и не особо рефлексируемые Артуром, на Алёшу не действуют. Помните шутку, что каждые 100 км в провинцию – это 10 лет назад? Цинично, но этот момент ощущается, ведь в трёх романах примерно одно время действия – плюс-минус 3-4 года. Конечно, здесь можно анализировать срез «провинция – столица» и разницу этих двух миров, но тогда мы утонем в материале.
Итак, Архангельский играет не по правилам (соц)реалистического канона, а отодвигает его ногой. У него не два полюса или «чёрный верх» – «белый низ», а «всё сложно»: хороших людей не бывает, бывают только плохие в разной степени. Да и качество «плохости» – подростковая категория для продукта системы, выросшего в советском инфантилизирующем вакууме, разве нет? Наш герой – не Петруша Гринёв, а человек взрослый психологически и умственно, стоящий на мощной интеллектуальной традиции возрождения европейской христианской культуры. В голове у него нет железного занавеса Павлика или унификационного ростомера родителей Топкина (см. у Сенчина: «Какой ещё Афган? Какие ещё убитые? Это были учения, это вообще засекреченная информация, а вы распространяете клевету, панику, я жена офицера, да я с вами знаете что за это…»). Словом, он вообще не «типаж» и не «продукт», если брать за абсолютную положительную величину героя Варламова, а за абсолютную отрицательную – антигероя Быкова, к примеру. Дурной ли он человек? Дурной человек быковский Миша Гвирцман, насилующий проститутку Валю. Персонаж Архангельского же просто прохладный, эгоистичный, не очень способный любить людей малоприятный тип – но это ведь не преступление.
Если же вернуться в контекст времени, то проще всего приписать героя к эстетствующим неофитам с уклоном в диссидентство, которых породили времена реабилитации православия. Только здесь речь не о совмещении пионерского галстука и крестика, как у Варламова, а по меньшей мере о наложении бердяевского учения на катакомбное христианство, о сложных мирах сложных людей, которые диалектику не учили, а писали. Что же, это не обитатель советского и постсоветского романа, не лишний человек, не ритуальная пионерская жертва, не бунтарь, не резонёр – словом, не продукт. Но ещё и не создатель. А кто-то вне этой связки «творец – творимое». Да, не вызывающий особой симпатии, при всей своей «высокоумной» религиозности сконцентрированный на себе типчик, у которого «Я» в центре мироздания, сколько бы поклонов он ни бил. Бесконечно далёкий равно и от влюблённого в советскую действительность Павла (и даже Артурика), и от полудетской романтизации позднего социализма (Топкины-старшие), такой частой у массового жителя, — но он и не «антигерой» «Июня». По типу личности (эгоцентризм) похож, но вместо распущенного и с горечью осознаваемого животного начала мы имеем рациональное, неодогматическое мышление, служащее предметом гордости. Алёша наделён осознанием превосходства из оперы «я самый смиренный и воздержанный монах в этом монастыре, никому ещё не удалось достичь такой отречённости и самоумаления».
Слова об автобиографическом, рефлексирующем альтер эго автора, пожалуй, будут уместнее всего применительно к этому герою. Интеллектуальные воспоминания, переделанные в сюжет. Но зато всё настоящее, никакого «советского кино» до 18 лет, никаких законов драматургии.
И да, фон-герой, контекст-герой – вот это оно и есть. Топос у Архангельского доминирует над сюжетом. Прозрачная, филигранная проза о Москве, полная лиризма, прекрасная с точки зрения языка, полёты по улицам Москворечья, античные беседки метрополитена и другие детали архитектуры и времени Олимпиады воссоздают пространство тонким и живописным способом. Такие вещи не могут обмануть, поэзия эпохи отражается в прозрачном и чистом, почти не искажающем кристалле: конечно же, это глаза автора, а не героя или рассказчика. Вот почему эта книга прекрасна – это лирическая, пронзительная акварель о Москве конца 70-х, полная запахов, звуков, гудков автомобилей, дождевых капель и зелёных листиков на Котельнической. Это не Москва-миф с несуществующими подземными этажами и подделанными результатами экзаменов, как у Варламова, а Москва – преображённая реальность, которая вся чудо, хотя в ней не происходит никаких чудес, вся легенда, хотя все личности вполне реальные и деканши не похожи на ведьм с Киевской горы. Всё серьёзно: читай и плачь, это не соцреализм передаёт привет, это твоя единственная жизнь проходит, пока ты пытаешься и не можешь разобрать очередной лозунг…
Через пыльные Басманные и вялую Покровку, заставленную старыми домами, как тесный антикварный магазин – комодами эпохи Александра III, в длиннохвостый Лялин переулок, а оттуда – до Николоямской, и вверх. Вдоль тротуаров подсыхали тополя, на скамейках восседали злобные сторожевые бабки. Спокойная жара перерастала в пекло; на всех углах стояли белые нарядные милиционеры, похожие на сахарные головы; поражала феерическая пустота… Как же я любил тогда Москву… Страдающий архитектурным сколиозом, простроченный трамвайными путями, этот город корчился, гремел, чадил, но стоило свернуть в очередной кривоколенный переулок, и ты погружался в последний покой, где безраздельно царили старухи. В длинных авоськах телепались продукты: белый батон, нарезно́й, за тринадцать копеек, четвертинка «Орловского» чёрного, баночка килек в кислом томате, треугольный пакет молока.
III. «Плохой» Миша Дмитрия Быкова
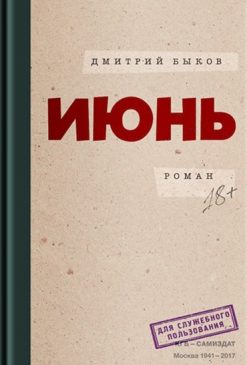 Причин, по которым в этой статье мы затрагиваем роман Дмитрия Быкова «Июнь» (М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2017), две. Первая — ещё и двух лет не прошло со дня его выхода в свет, он подходит под тенденцию «экскурса в советское прошлое» по формальным признакам. Архивная вещь о самом конце 30-х, будни ИФЛИ и Метростроя, столичное предвоенное пространство, интеллигентная семья, мятущийся герой. Конечно, это роман-исследование личности, он почти не имеет отношения ни к «ностальгической традиции» (времена не те!), ни к специфике советского сознания (да и когда это сознание закончило формирование? В 70-е? Тогда здесь нужно говорить о «сознании переходного периода»?). Однако есть и второй момент, он для нас важнее, – это анализ обратной стороны медали героя. Если Варламов, Идиатуллин и Архангельский (да что там, даже Сенчин со своим тувинским патриотом-остеклителем), условно говоря, смотрят «хорошими глазами» на «плохих», то герой Быкова смотрит «плохими глазами» на «хороших». Инфанты Павлик, Артурик и Алёша – всё-таки «хорошие ребята», а вот единственное достоинство Миши — его несклонность обелять свою дурную сущность, справиться с которой он, может, и хотел бы, но это сильнее его.
Причин, по которым в этой статье мы затрагиваем роман Дмитрия Быкова «Июнь» (М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2017), две. Первая — ещё и двух лет не прошло со дня его выхода в свет, он подходит под тенденцию «экскурса в советское прошлое» по формальным признакам. Архивная вещь о самом конце 30-х, будни ИФЛИ и Метростроя, столичное предвоенное пространство, интеллигентная семья, мятущийся герой. Конечно, это роман-исследование личности, он почти не имеет отношения ни к «ностальгической традиции» (времена не те!), ни к специфике советского сознания (да и когда это сознание закончило формирование? В 70-е? Тогда здесь нужно говорить о «сознании переходного периода»?). Однако есть и второй момент, он для нас важнее, – это анализ обратной стороны медали героя. Если Варламов, Идиатуллин и Архангельский (да что там, даже Сенчин со своим тувинским патриотом-остеклителем), условно говоря, смотрят «хорошими глазами» на «плохих», то герой Быкова смотрит «плохими глазами» на «хороших». Инфанты Павлик, Артурик и Алёша – всё-таки «хорошие ребята», а вот единственное достоинство Миши — его несклонность обелять свою дурную сущность, справиться с которой он, может, и хотел бы, но это сильнее его.
То, о чём Борис Кутенков упоминает в интервью с Архангельским на «Textura», – разнице между временным прописанным контекстом и условными декорациями, в которых удобнее так и эдак вертеть героя с признаками альтер эго, – в книге Быкова очевиднее всего. Не фон и тип сознания тут главное, а альтер эго любимое, весьма достоевское, маленький Свидригайлов Миша (Давид Самойлов, как объясняет нам Алексей Колобродов в статье на «Rara Avis», копанием в котором и занят автор, а теперь ещё и мы. Можно по-разному относиться к подобному леонидандреевскому психологизму и совмещению выбранного контекста с вневременным героем (как будто коммунистический подлец и негодяй в корне отличался от николаевского, например) – считать это беллетристичностью, склонностью автора везде пихать искажённый вариант себя и т.д. Но ведь это не критический разнос или поиск недостатков в увлекающей и вполне характерной прозе Быкова, тем более все уже и так привыкли, что Дмитрий Львович просто есть, и разбирают его только для порядка. Это поиск героя, раз уж мы решили, что контекст здесь – контекст и не более. Такая спортивная площадка с тренажёрами, на которых проверяют возможности и потенциал тренирующегося: а вот разнос на собрании и публичное осуждение, а вот предвоенный военкомат, а вот лечебница и тяжёлый труд санитара, а вот мир «бывших и выпавших из жизни» («дно») и т.д. Насколько это все соответствовало истине того времени? Не подобно ли это реконструкции компьютерной игры? Кто жил тогда, тот знает, к сожалению, спросить уже почти не у кого. Вернёмся же к герою — для этого мы здесь.
Что же, Гвирцман – еврей анекдотического толка, который, может, и есть в каждом, но не в каждом он побеждает. Он косит от призыва в годы ВОВ (потому что ему банально страшно); мечтает изнасиловать женщину, которая его мучила; насмехается над погибшим героем войны (который есть собирательный образ поэтов Когана и Кульчицкого); кощунственно видя в нём честолюбца, постоянно трясётся за свою шкуру на институтских собраниях; всюду протежируем своим папочкой-врачом – и даже, с позволения сказать, любовь носит у него чисто животный характер, никак не затрагивая сердца, несмотря на весь его выученный наизусть книжный шкаф классики XIX века и уникальную память. И всё же в Мише есть привлекательная сторона. Он признаёт перед собой и другими свою сущность, более того, он несчастен из-за своей природы, которую хотел бы изменить, но не в силах. Его инстинкты и эмоции не имеют сознательной мотивации, он не принципиальный негодяй или холодный доносчик, делающий себе карьеру в системе. Трусость и боязнь смерти, минутная жажда мести обидчику, зависть по отношению к обожаемому другими герою, приставания к не самым моральным женщинам, 5-я графа и интеллигентное происхождение, никак не облагородившее души, – это ещё не преступления. Вот о чём как бы пытается сказать автор – или это так слышится. Помните к/ф «Адвокат дьявола?» (или роман «Братья Карамазовы»?), этот главный вопрос, на который, оказывается, можно дать совершенно противоположные ответы: «То, что человека не любят, еще не достаточно, чтобы признать его виновным в убийстве, не так ли?». «Антигерой» Миша несёт в себе много человеческого, признавать существование другой стороны даже в достойных людях необходимо, другой вопрос, нужно ли её выпячивать. Вместе с тем, странное дело, в каждом живёт какая-то часть Миши (как и Павлика, кстати, – в этом они похожи). И благодаря такому персонажу человек менее боится рассмотреть её и признать её наличие: это не преступление – быть человеком. Пусть даже не самым хорошим. Это не преступление – быть собой, казалось бы, азбучная вещь для эпохи гуманизма. Но «Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?»
– Ты, Гвирцман, всё про себя, – сказала Валя ласково. – Ты потому и не видишь ничего.
– Согласен, мне всю жизнь это говорят. Но я не скрываю хотя бы.
III. «Усреднённый» Топкин Сенчина
 После героев и антигероев обратимся же и просто к человеку, уже не советскому, ещё не «европейцу». Застрявшему психологически между утопической империей и большим страшным миром капитализма, стагнировавшимся, если можно так выразиться: большой роман всё же выруливает на Перестройку. В 1992 г. счастливый обитатель Тувы Топкин как раз с помощью филфака миновал призыв в потенциальный Афган. Его родители – такие Павлики Непомилуевы (офицер и завотдела «Ткани») – с опозданием на 25 лет переживают крушение своих внутренних миров по схеме, разобранной в романе Варламова.
После героев и антигероев обратимся же и просто к человеку, уже не советскому, ещё не «европейцу». Застрявшему психологически между утопической империей и большим страшным миром капитализма, стагнировавшимся, если можно так выразиться: большой роман всё же выруливает на Перестройку. В 1992 г. счастливый обитатель Тувы Топкин как раз с помощью филфака миновал призыв в потенциальный Афган. Его родители – такие Павлики Непомилуевы (офицер и завотдела «Ткани») – с опозданием на 25 лет переживают крушение своих внутренних миров по схеме, разобранной в романе Варламова.
Года до девяностого родители были абсолютно советскими людьми. Их ранняя юность совпала с оттепелью, романтикой, молодость пришлась на начало брежневского времени, когда хоть постепенно, медленно, но становилось всё лучше. Перебои то с одним, то с другим в конце семидесятых – начале восьмидесятых они воспринимали как временные трудности, верили, что жить, двигаться дальше мешают внутренние враги, эти хапуги, рвачи, несуны, диссиденты, происки внешних врагов – империалистов, сионистов…
А их отпрыск гораздо больше озабочен нюансами собственной физиологии в отношении мимопроходящих женщин, нежели всей этой мировоззренческой трагедией. Он шокирует сам себя словом «сифилис» в поздней лирике Есенина в выпускном классе и не переживает Павликова ностальгического счастья поездки на картошку (ибо не до «картошки» уже совхозам и колхозам в 1991 г.). В рецензиях на роман персонаж фигурирует как классический тип неудачника. (См. хотя бы рецензию Андрея Рудалёва в «Литературной газете»)2. Ну, в самом деле, Артурик сын хоть и провинциального, а всё же номенклатурщика и начальника, любимчик семьи, смелый, ловкий, способный на глубокие чувства. Павлик – сирота-везунчик и сын чуть ли не героя, погибшего на секретном объекте, соль земли. Герой Архангельского – интеллектуальная элита олимпиадной столицы и бойфренд дочки замминистра. Даже негодяй Миша Гвирцман – и тот сын маститого стоматолога со связями, студент ИФЛИ, сокурсник «поэтов, погибших на фронтах ВОВ». Юноша Топкин же на этом фоне меньше, чем никто, даже не полноценный «советский человек», ибо время отрочества совпадает с развалом Союза и формирование «сознательного гражданина» не успевает завершиться. И жизнь у него ужасно скучная, что у маленького, что у большого. Да и сама книга подкупает разве что своей незамысловатостью, простосердечием, откровенной острой ностальгией по детству и родным местам. Да, жил вот такой, Топкин, в Кызыле, мечтал о солдатиках-индейцах, о хорошем магнитофоне из комиссионки, тайком ходил смотреть неприличные фильмы в видеотеку, экономя на школьных обедах… А потом стал мечтать о женщинах, а потом армии боялся настолько, что в Пед пошёл, несмотря на насмешки товарищей. Был он не тем, кто катит колесо, а колесом, обывателем. И взрослая жизнь была такая же – квартира от родителей, несколько неудачных браков (жёны бросали за бесперспективность), случайные связи «папаши» со студентками 90-х, стыдящийся родителя сын, работы в областях торговли вещами, фотопроявки, остекления балконов: в перестройку всё сгодится. Даже не интеллигент, а уже деклассированный элемент. Единственный зрелый герой всей череды романов, кстати, доведённый до наших дней. Чем там кончилось у Павлика, Артурика, Мишки и Алёшки, мы только предполагаем (с учётом автобиографичности), но наверняка не знаем. А тут всё прямым текстом: Союз распался, наши дни, герой в поисках очередного трудоустройства остаётся в гордом одиночестве. То есть в Туве, в квартире, за которую он должен ещё первой жене, на руинах русского бизнеса, подмятого коренными, и с невнятной перспективой переезда в Эстонию к эмигрировавшим на родину предков родителям. Тускло, серо. О чём тут, казалось бы, писать, тем более что в настоящее время Топкину 40 лет и пересказывать, как он якобы «брал Зимний», рановато, – внуки ещё не народились. И всё же в целом нехитрое, печальное и личностное описание жизни в конце 80-х – начале 00-х на окраине огромной разваливающейся республики вызывает симпатию. Мы сфокусированы не на герое (как в предыдущих романах, например «Город Брежнев», где тоже окраина империи), а на происходящем. Герой внимания не стоит, как дождь в Париже. Жизнь же, разворачивающаяся перед нами, именно от непосредственности и детальности её пересказа трогает сердце читателя. Да, это момент краха иллюзий, закат Союза, в формализм скатилось воодушевление, ещё вполне живое в 80-е. Идея дружбы всех народов обернулась требованием «оставить в покое малые республики». Никто не хочет платить за пошив платьев на заказ, потому что одежда появилась в продаже, хлынул первый капиталистический ручеёк. Не за горами национальная рознь и передел собственности. Словом, старый официальный мир линяет, умолкает, корабль коммунизма тонет вместе со своими матросами, офицерами, обслуживающим персоналом и случайными попутчиками. А хроникёр каким-то образом избегает психологической гибели и отображает происходящее своим нехитрым пером. И тот самый Париж — такая интермедия после очередного развода и прощания со старой жизнью и, возможно, молодостью, рефлексия с опозданием на 15-20 лет, – становится безвременьем, сбывшейся и в то же время иллюзорной мечтой персонажа, осознающего, что «как-то по-дурацки жизнь прошла». Но читая книгу, ты спрашиваешь себя: так ли это? Столь ли бессмысленным всё это было? Столь ли бесполезный и неудачливый человек герой, даже если таковым и кажется?
***
Итак, с «большим романом» последних двух лет мы прошли по всей цепочке, по всей истории существования империи, от расцвета до заката. От 20-30-х Яхиной и Громовой, через 40-е Быкова, 70-80-е Архангельского, Идиатуллина и Варламова — в 90-е Сенчина. 50-е – 60-е получились временной лакуной (кроме громовской «Берггольц», но это не совсем художественная проза), но я уверена, что и она восполнится. Что же это за ряд книг? Художественная апология жизни при Союзе, история формирования психологии её жителя, позднесоветской мифологии, топографии, перспектив? Авторская рефлексия, попытка зафиксировать, оценить, понять? Или просто требование времени – частного (ряд маститых авторов достиг 40-60 лет – время оглянуться и подвести итог) или всеобщего (как раз 50-70 положенных лет для «исторического взгляда» уже прошли)? У статьи нет такой масштабной задачи: определить, что это и чем вызвано, – это лишь попытка выявить и рассмотреть тенденцию, в данном случае образ ностальгической родины в сегодняшней большой прозе. Как очевидно, этот остров занимает если не центральное, то весьма ощутимое место в городском романе наших дней. Что будет дальше – покажет литпроцесс.
А герой – ну что ж, герой: он то неотъемлемая часть системы, то внутренне борется с системой, то обманывает её, то любит, то боится, то уклоняется от неё, то возложил на неё все свои надежды и чаяния, вплоть до веры в чудо, то видит её как химеру и чудовище, коричневую чуму. Но всё же без неё и его как бы уже нет – он теперь россиянин, европеец, постсоветский человек, но это говорят ему с разных сторон, а сам себя он ещё не отождествляет с данным субъектом. Он ещё не привык сам по себе. Мыслями он там. Боролся, боролся, теперь бороться стало не с чем и выяснилось, что он не так уж и плохо жил, не таким уж никем и был. А теперь он одинок, бездомен, безработен и гол на бескрайнем пространстве страны, которая больше не единый СССР. А угнетённая Чувашия, например, и местным вообще, как оказалось, не очень нравятся русские. Нельзя взять и выбросить историю, тем более свою, взять и отрезать прошлое, тем более если это твоя юность, молодость, – а теперь надо начинать сначала, а как, не сказали. Человек уже думает, не боролся ли он отчасти и с собой, борясь с системой? Не пиррова ли его победа? И где ему найти новую навигацию, новый маяк и якорь? Кто он и где он – теперь?
_____________________________
1 Интервью с Алексеем Варламовым читайте на «Textura» в ближайшее время. – Прим. ред.
2 См. также: «Донкихоты советского образа». Алексей Колобродов о книге Романа Сенчина «Дождь в Париже» // Textura, 19 мая 2018. – Прим. ред.




